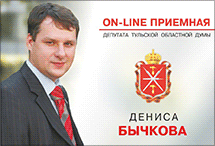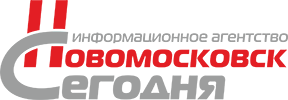«Но вернусь к рассказу о двух поэтах...
Вторым был Ярослав Смеляков.
Как-то раз мы с Юликом зашли в кабинку к нарядчику Юрке Сабурову. Юлий взял стопку карточек, по которым зеков выкликали на разводе - они маленькие, величиной с визитку. По привычке преферансиста Юлик стал тасовать их. Потасует, подрежет и посмотрит, что выпало. На второй или третий раз он прочитал: «Смеляков Ярослав Васильевич, 1913 г.р., ст.58.1б, 10 ч.П, 25 лет, вторая судимость».
Поэта Смелякова мы знали понаслышке. Из его стихов помнили только «Любку Фейгельман», которую в детстве непочтительно распевали на мотив «Мурки»:
До свиданья, Любка, до свиданья Любка!
Слышишь? До свиданья, Любка Фейгельман!
Слышали, что он до войны сидел. Неужели тот? Вторая судимость, имя и фамилия звучные как псевдоним... Решили выяснить.
Юрка сказал, что Смеляков ходит с бригадой на строительство дороги, и мы после работы пришли к нему в барак, объяснили, что мы москвичи, студенты, здесь старожилы, и спросили, не можем ли быть чем-нибудь полезны.
- Да нет, ничего не надо, - буркнул он. Был неулыбчив, даже угрюм.
Мы поняли, что не понравились ему и распрощались: насильно мил не будешь. Но дня через два к нам прибежал паренек из дорожной бригады, сказал, что Смеляков интересуется, чего мы не появляемся.
- Вы ему очень понравились, - объяснил посыльный. Мы сразу собрались, пошли возобновлять знакомство.
Это был как раз тот неприятный период, когда Бородулин запретил хождение по зоне. Поэтому мы со Смеляковым зашли за барак, сели на лавочку возле уборной, и он стал читать нам стихи. Стрелок с вышки видел нас, но пока мы не лезли на запретную зону, происходящее мало его трогало.
Ярослав Васильевич - он до конца жизни оставался для нас Ярославом Васильевичем, несмотря на очень нежные отношения - знал, что читать: «Кладбище паровозов», «Хорошая девочка Лида», «Мое поколение», напечатавшиеся тогда «Приснилось мне, что я чугунным стал» и «Если я заболею». (Это прекрасное стихотворение впоследствии так изуродовали,
переделав в песню! Говорят, Визбор. Жаль, если он).
Стихи нам нравились, нравилась и смеляковская манера читать - хмурое чеканное бормотанье. Расставаться не хотелось, и мы попробовали перетащить его в нашу колонну. Не так давно я прочитал, по-моему, в «Литературке» статью кого-то из московских поэтов. Воздав должное таланту и гражданскому мужеству Смелякова, он сообщал читателям, что в лагере Смелякову предложили легкую работу, в хлеборезке, но он гордо отказался и пошел рубать уголёк...
Было не совсем так.
Про нас и самих, в стихотворении, посвященном Дунскому и Фриду, Володя Высоцкий сотворил микролегенду:
Две пятилетки северных широт,
Где не вводились в практику зачеты -
Ни день за два, ни пятилетка в год,
А десять лет физической работы.
Лестно, но не соответствует действительности: из десяти лет срока мы с Юлием на «физических работах» провели не так уж много времени.
И Ярославу никто не предлагал работу в хлеборезке, а в шахту на Инте он не спускался ни разу. Дело обстояло так: я пошел к начальнику колонны Рябчевскому, который к нам с Юликом относился уважительно. Он называл нас «вертфоллер юден» - полезные евреи. Такая категория существовала в гитлеровском рейхе - ученые, конструкторы, особо ценные специалисты.
- Костя, - сказал я. - Скоро весна, начнутся ремонтные работы, тебе наверняка нужны гвозди. Я тебе принесу четыре килограмма, а ты переведи Смелякова на шахту 13/14.
Сделка состоялась. Гвозди я выписал через вольного начальника участка, и на следующий же день Ярослав Васильевич вышел на работу вместе с нами.
Уже на воле, в Москве, пьяный Смеляков растроганно гудел, встречаясь с нами:
- Они мне жизнь спасли!
Это тоже неправда. Во-первых, его жизни впрямую ничто не угрожало - лагерь все-таки был уже не тот. А во-вторых, главную роль в его трудоустройстве сыграл старший нормировщик з/к Михайлов. Святослав Михайлов был сыном белоэмигранта, военного ветеринара, и когда подрос, пошел по стопам отца. Нет, он не стал ветеринаром. Он командовал ротой русского батальона квантунской армии Маньчжоуго. Боевым маршем у них была слегка переделанная советская песня:
На траву легла роса густая,
Поползли туманы из тайги.
В эту ночь решили комиссары
Перейти границу у реки.
Но разведка доложила точно,
И пошел, отвагою силен,
По родной земле дальневосточной
Асано ударный батальон!
(Асано - герой японского эпоса, чье имя присвоили батальону, в котором
служил поручик Михайлов).
Когда в сорок пятом году советские войска вошли в Маньчжурию, Свет не захотел защищать честь японского оружия. Он рассказывал:
- Я собрал наших и говорю: «Ребята, наши уже на окраине Харбина. Что будем делать?». Наши решили, что против наших воевать не будем. Поручик Свет без боя сдал свою роту, в благодарность получил 10 лет срока и поехал в Инту. Мы с ним очень подружились, спали рядышком на нарах. Хотя он ворчал:
- Сказал бы мне кто восемь лет назад, что я буду спать под одним одеялом с евреем! Я бы взял мою катану - это такой двуручный меч - и зарубил бы сукина сына!
... Полковником его звал и Ярослав Васильевич. Они понравились друг другу
сразу. Для начала Свет определил Смелякова на заготовку пыжей. Работа не бей лежачего: бери лопатой смесь глины с конским навозом и кидай в раструб пыжеделки. Это хитрое приспособление, за которое заключенные рационализаторы получили даже премию, при ближайшем рассмотрении оказывалось чем-то вроде большой мясорубки. Электромоторчик крутил червячный вал и через две дырочки, как фарш выползали наружу глиняные колбаски - пыжи для взрывников.
Со строительством дороги новые обязанности Ярослава Васильевича не сравнить, но и они показалась Полковнику слишком тяжелыми для такого человека, как Смеляков. Он перевел его в бойлерную. Теперь, приходя на работу, Ярослав должен был нажать на пусковую кнопку и сидеть, поглядывая время от времени на стрелку манометра чтоб не залезла за красную черту. Уходя, надлежало выключить насос. Совестливый Смеляков по нескольку раз в день принимался подметать и без того чистый цементный пол. Раздобыв краски у художника Саулова, покрасил коробку пускателя в голубой цвет, а саму кнопку в красный. И все равно
оставалось много свободного времени. Мы с Юликом - а иногда и со Светом - забегали к нему поболтать. К этому времени мы уже знали его невеселую историю.
Сам он был не любителем высокого штиля и никогда не назвал бы свою судьбу трагедией. Я тоже не люблю пафоса, но как по-другому сказать о том, что со Смеляковым вытворяла искренне любимая им советская власть?
В 34-м году молодой рабочий поэт, обласканный самим Бабелем, заметил по поводу убийства Кирова:
- Теперь пойдут аресты и, наверно, пострадает много невинных людей. Этого оказалось достаточно. Ярославу дали три года. И немедленно распустили слух, будто посажен он за то, что стрелял в портрет Кирова. Зачем стрелял, из чего стрелял - неясно. Ясно, что мерзавец.
Этим приемом чекисты пользовались часто. Одна очень знаменитая актриса - не помню, какая именно, но в ранге Тамары Макаровой - оказалась на кремлевском банкете рядом с Берией и отважилась спросить: что с Каплером?
- Почему вас интересует этот антисоветчик и педераст? - ответил Лаврентий Павлович.
Это Каплер -то педераст? - удивилась про себя актриса. У нее, видимо, были основания удивляться. Но вопросов больше не задавала: не может же порядочную женщину волновать судьба педераста. Но это так, к слову.
А Смеляков вышел на свободу в 37-м, не самом хорошем, году. Вернулся в Москву, продолжал писать, но тут началась война. Другие писатели пошли в армию капитанами и майорами - кто в корреспонденты, кто в политруки. А Ярослава с его подпорченной биографией определили в стройбат. В первые же месяцы их часть угодила в окружение. Ярослав Васильевич рассказывал, как они метались в поисках своих, и никто не мог указать им направление. Толкнулись в штаб какой-то чужой части. Дверь открыл полуодетый майор-особист, пахнувший, по словам Смелякова, коньяком и спермой. Обматерил и вернулся к своей бабе...
Весь стройбат попал в плен к финнам. Там Ярослав вел себя безупречно. Был, выражаясь языком официальных бумаг, «организатором групп Сопротивления». Поэтому во втором его лагере (втором - это если не считать финского), в так называемом «фильтрационном», Смелякова продержали недолго, грехов за ним не водилось.
Было это в Подмосковном угольном бассейне. Там он познакомился с прелестной женщиной, работавшей в конторе; освободившись, женился на ней и увез в Москву вместе с уже довольно большой дочкой.
Опять писал стихи, даже издал один или два сборника. И однажды, выпивая с Дусей и каким-то приятелем, сказал:
- Странное дело. О Ленине я могу писать стихи, а о Сталине не получается. Я его уважаю, конечно, но не люблю. Когда приятель ушел - я ведь знал его фамилию, знал, но к сожалению, забыл, Дуся заплакала.
- Если б ты видел, какие у него сделались глаза, когда ты это сказал!
- А что я такого сказал? Сказал - уважаю. Но оказалось, что Сталину этого мало. Приятель вполне оправдал Дусины ожидания, и Смелякова посадили в третий раз, не считая финского раза. Припомнили плен и припаяли кроме антисоветской агитации еще и измену Родине.
Я уже говорил: недолюбливая Сталина, Ярослав Смеляков всегда был и в лагере оставался советским поэтом - может быть, самым искренне советским из из всех. Послушав наши лагерные стишата, он сдержанно похвалил отдельные места в «Обозрении» и во «Враге народа», но с большим неудовольствием отнесся к «Истории государства Российского». Зло и несправедливо, - сказал он. Из написанного нами ему понравился только рассказ «Лучший из них».
Смеляков был вторым человеком, который сказал про нас: писатели. Первым был Каплер. И так случилось, что много лет спустя они оба написали нам рекомендации в Союз Писателей.
В стихах самого Смелякова, написанных в тюрьме и в лагере - их не много, злобы не было. Скорей всего, поэту страшно было найти ответ на свой же вопрос: «Как получилось?». Это было бы крушением его веры, сломало бы соломинку, за которую Смеляков цеплялся до последних дней своей жизни. Даже в Москве - вернее, в своем добровольном переделкинском заточении - он выспрашивал у нас с Юликом: ну, а как сейчас на собраниях? Спорят молодые? Или как раньше? Ничего утешительного мы ему сказать не могли.
Рабом Ярослав Васильевич в лагере не стал, рабского в нем не было ни грамма. Однажды мы втроем грелись на солнышке возле барака. Мимо прошел старший нарядчик, бросил на ходу:
- Здорово.
- Здорово, здорово, еб твою мать! - с неожиданной яростью сказал Смеляков. Мы его попрекнули: ну зачем же так? Ничего плохого этот мужик ему не делал пока.
- Валерик, у него же глаза предателя. Вы что, не видите?!
Жена Дуся прислала Ярославу письмо: у дочки скоро день рождения, как хотелось бы, чтоб ты был с нами. Ярослав Васильевич написал ответ - но не послал, лагерный цензор не пропустил бы.
Твое письмо пришло без опозданья.
И тотчас - не во сне, а наяву -
как младший лейтенант на спецзадание,
я бросил все и прилетел в Москву.
А за столом, как было в даты эти
у нас давным-давно заведено,
уже шумели женщины и дети,
искрился чай, и булькало вино.
Уже шелка слегка примяли дамы,
не соблюдали девочки манер
и свой бокал по-строевому прямо
устал держать заезжий офицер.
Дым папирос под люстрою клубился,
сияли счастьем личики невест -
вот тут-то я как раз и появился,
как некий ангел отдаленных мест.
В тюремной шапке, в лагерном бушлате,
полученном в интинской стороне -
без пуговиц, но с черною печатью,
поставленной чекистом на спине...
Твоих гостей моя тоска смутила.
Смолк разговор, угас застольный пыл...
Но боже мой, ведь ты сама просила,
чтоб в этот день я вместе с вами был!
Печать, поставленная чекистом на спине - это номер Л-222. Кстати, Смеляков умудрился где-то его потерять, и я собственноручно нарисовал чернилами на белом лоскутке три красивые как лебеди двойки. Поэтому и запомнил.
После смерти Ярослава его вторая жена, Татьяна Стрешнева, опубликовала это стихотворение в одном из московских журналов, забыв указать, кому оно адресовано. Получилось, что ей. Мне неприятно говорить об этом, потому что Таня своей заботой очень облегчила последние годы жизни Ярослава Васильевича, была образцовой женой,
умела приспособиться к его трудному характеру. «Платон мне друг, но...».
О забавных обстоятельствах их знакомства я еще успею рассказать. А сейчас поспешу оговориться, что о трудном характере Смелякова я упомянул, полагаясь на чужие свидетельства. О нем говорили - грубый, невыносимый... Но в нашей с Дунским памяти он остался тонким, тактичным, и даже больше того нежным человеком.
Как-то раз посреди барака Ярослав подошел к Юлику, обхватил руками, положил голову ему на плечо и сказал:
- Юлик, давайте спать стоя, как лошади в ночном...
Много лет спустя мы вложили эту реплику в уста одному из самых любимых своих героев - старику-ветеринару.
В лагере Ярослав Васильевич по техническим причинам не пил, но не без удовольствия вспоминал эпизоды из своего не очень трезвого прошлого. Рассказал, как однажды, получив крупный гонорар, он решил тысячи три утаить от жены Дуси, на пропой. Поделился этой идеей с товарищем; они вдвоем возвращались из издательства на такси и уже успели поддать. Товарищ одобрил. Назавтра, протрезвев, Смеляков стал пересчитывать получку и обнаружил, что нехватает как раз трех тысяч. Позвонил своему вчерашнему спутнику. Тот сразу вспомнил:
- Я тебе сказал, что всегда зажимаю тыщенку-другую. А чтоб моя баба не нашла, прячу в щель между сиденьем и спинкой дивана.
Тогда вспомнил и Ярослав: он тоже спрятал заначку между спинкой и сиденьем. В такси... Дусю он очень любил, и понимал, что надежды увидеть ее снова нету из своих двадцати пяти он отслужил только два года. Он говорил мне - то ли всерьез, то ли грустно шутил:
- Валерик, вам через год освобождаться. Женитесь на Дуське! Она немного старше вас - но очень хорошая. Ко мне он относился с большой симпатией - хотя Юлика, по-моему, уважал больше.
Уверял меня:
- Если б мы познакомились на воле, я бы вас сделал пьяницей! На ликерчиках. Вы ведь любите сладкое?
Ильза, вольная девочка из бухгалтерии, принесла Ярославу Васильевичу тоненькую школьную тетрадку. На клетчатых страничках Смеляков стал писать у себя в бойлерной, может быть, главную свою поэму - «Строгая любовь». Писал и переделывал, обсуждал с нами варианты - а мы радовались каждой строчке:
Впрочем, тут разговор иной.
Время движется, и трамваи
в одиночестве под Москвой,
будто мамонты, вымирают...
О своей комсомольской юности, о своих друзьях и подругах он писал с нежностью, с юмором, с грустью. Судьба у этой поэмы оказалась счастливой куда счастливей, чем у ее автора.
Впрочем, сейчас, когда, как выражался мой покойный друг Витечка Шейнберг, «помойница перевернулась», переоценке подвергнута вся советская поэзия: уже и Маяковский -продажный стихоплет, и за Твардовским грешки водились... Что уж говорить о Смелякове! Хочется спросить яростных ниспровергателей: помните, как такие же как вы, взорвали храм Христа Спасителя? Теперь вот отстраивают...
Вряд ли кто заподозрит меня в симпатиях к коммунистическому прошлому. Да, идея оказалась ложной. Да, были прохвосты, спекулирующие на ней - в том числе и поэты. Но всегда - и в революцию, и в гражданскую войну, и после были люди, бескорыстно преданные ей. И преданные ею. Они для меня - герои высокой трагедии.
После низвержения Берии в лагерях начались перемены. Первым делом нам приказали спороть номера. Тому, кто вовремя не спорол, «карячился кандей», т.е., могли дать суток пять карцера. А раньше давали столько же тому, кто не пришил. Появилось в зоне какое-то подобие школы взрослых, стала выходить лагерная многотиражка «Уголь стране» - Родины минлаговцам пока еще не полагалось. И Ярославу Смелякову поручили вести в газете как бы семинар поэзии - консультировать местных стихотворцев.
... А история Смелякова и Дуси кончилась невесело.
Его освободили в том же году. На поселении не оставили, разрешили ехать в Москву. Чтоб он явился к Дусе не в лагерном бушлате (хоть и без «печати, поставленной чекистом на спине»), а в мало-мальски приличном виде мы подарили ему мое кожаное пальтецо. Оно, собственно, было не мое, а отцовское и по размеру подходило Ярославу больше чем мне. Старенькое - но его взялся подновить предприимчивый старик по фамилии Бруссер. Выйдя из зоны, он наладил на Инте производство фруктовой воды - которую сразу окрестили «бруссер-вассер». И еще он прирабатывал окраской кожаных вещей.
Рыжая краска с перекрашенного пальто осыпалась, как осенняя листва - но все-таки оно было лучше, чем бушлат. (Много лет спустя Ярослав Васильевич признался нам, что до Москвы пальто не доехало: еще в поезде он сменял его на литр водки.).
Прямо с вокзала Ярослав отправился домой. Там он застал незнакомого пожилого господина и притихшую, смущенную Дусю.
- Ярослав Васильевич, - сказал незнакомец. - Поговорим, как мужчина с мужчиной. Смеляков говорить не захотел, взял свой чемоданчик и ушел - навсегда.
Он еще в лагере тревожился; догадывался что дома что-то не так. То от Дуси приходили нежные письма, то она надолго замолкала. Потом вдруг приходила очень хорошая посылка и снова молчание. Мы успокаивали его, объясняя эти перебои обычной российской безалаберностью.
Дусин приезд вроде бы подтвердил нашу правоту - а между тем, основания для тревоги были. У Дуси давно уже возникли отношения с Бондаревским, человеком состоятельным и широким. Он был известным всей играющей публике наездником. (А не жокеем, как его назвал Евтушенко), Евгений Александрович написал по поводу этой Дусиной «измены» сердитые стихи - такие же несправедливые, как стихотворение самого Смелякова о Натали Гончаровой. Дусю можно понять. У нее была дочь-старшеклассница, почти невеста. Как прожит вдвоем на жалкую зарплату экскурсовода ВДНХ? А у Ярослава двадцать пять лет срока...
Конечно, когда ситуация в стране изменилась - тут нужно было повести себя умнее, как-то объясниться, хотя бы намекнуть. На это не хватило духу.
Наверняка Дуся любила Ярослава, ей очень хотелось, чтоб он вернулся. Мы с Юликом - уже в Москве - попробовали было навести мосты. Куда там! Смеляков и слушать не стал; лицо у него сделалось несчастное и злое.
Прошло время, и Ярослав Васильевич женился на Татьяне Стрешневой, поэтессе и переводчице.
Она была в доме творчества «Переделкино» в тот день, когда туда приехал объясниться со Смеляковым приятель, заложивший его. Просил забыть старое, не сердиться. Намекнул: если будешь с нами - все издательства для тебя открыты. Ярослав не стал выяснять, что значит это «с нами», а дал стукачу по морде. Тот от неожиданности упал и пополз к своей машине на четвереньках, а Смеляков подгонял его пинками. Это видела Татьяна Валерьевна, случайно вышедшая в коридор. Сцена произвела на нее такое впечатление, что вскоре после этого она оставила своего вполне благополучного мужа и сына Лешу ушла к Смелякову. Так она сама рассказывала.
После смерти Ярослава Васильевича мы отдали Тане его письма к нам и тетрадку с черновыми набросками «Строгой любви».